Почему стабильность в Казахстане оказалась иллюзорной? Насколько там сильны антироссийские настроения?
Интервью социолога Дианы Кудайбергеновой, которая изучает государство и национализм в Казахстане

События в Казахстане развиваются стремительно. В первые дни протестов казалось, что они будут локальными, потом президент Касым-Жомарт Токаев неожиданно пошел на политические уступки протестующим — и казалось, они начинают побеждать: в отставку было отправлено правительство, от власти был фактически отстранен Нурсултан Назарбаев. Но после этого Токаев попросил военной помощи государств-членов ОДКБ, и силовики начали интенсивное подавление беспорядков. По просьбе «Медузы», журналистка Александра Владимирова поговорила с политическим социологом и преподавателем Кембриджского университета Дианой Кудайбергеновой — о том, почему протесты оказались такими мощными и какие группы казахстанского общества особенно недовольны ситуацией в стране.
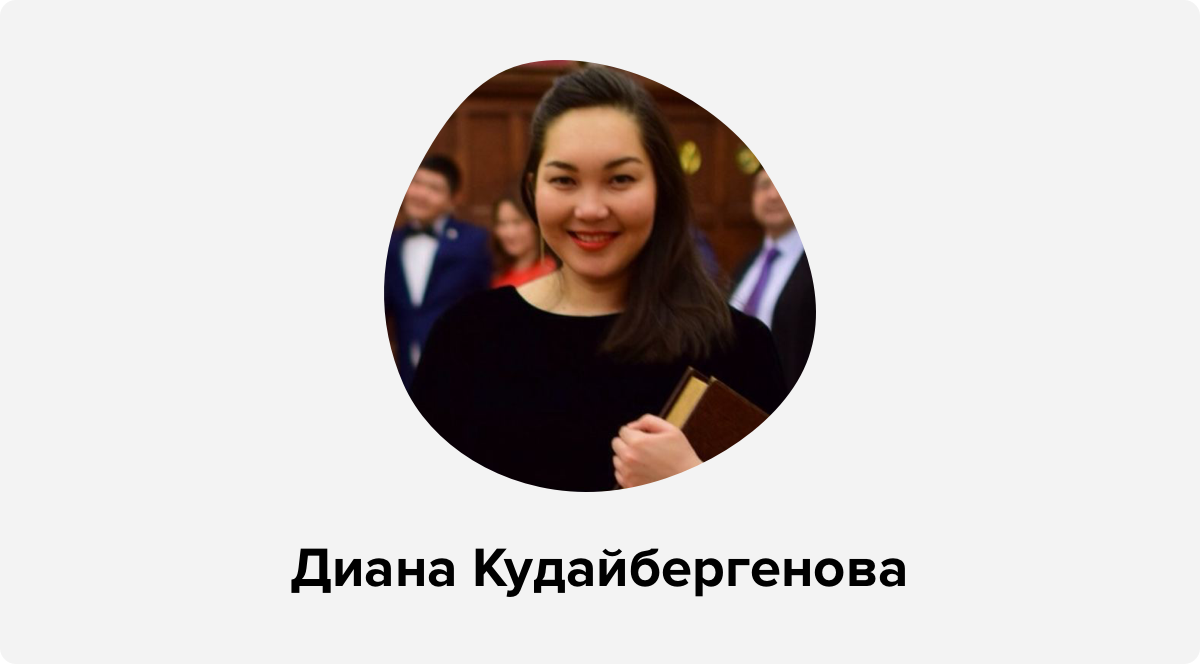
Диана Кудайбергенова. Политический социолог. В 2015 году защитила диссертацию в Кембридже и сейчас работает научным сотрудником на социологическом факультете. Изучает, как может складываться соотношение сил в системе власти, используя для этого концепции государства, идеологии и «национализирующих режимов» (то есть режимов, которые для поддержания власти используют тему «строительства нации» как одну из своих главных повесток). Автор двух книг — «Переписывая понимание нации в современной казахской литературе» (2017) и «На пути к национализирующим режимам. Концептуализация понятий власти и идентичности в изучении пост-советского» (2020).
«Нынешняя борьба идет за „намыс“ — с казахского это переводится как „достоинство“»
— Вы ожидали, что такой массовый, а главное, решительный, протест возможен в Казахстане в ближайшее время?
— Наверное, никто не ожидал, что он будет таким массовым. Но, конечно, протестные настроения, недовольство нынешней ситуацией в стране существовали долгое время. Режим шел на какие-то уступки, но они не были достаточными для того, чтобы успокоить [протестную] часть населения.
— Почему, как вы считаете, протест произошел именно сейчас?
— Как обычно бывает с протестами, неизвестно, что станет финальным триггером. В стране тяжелая экономическая ситуация, рост цен, пандемия, проблемы с социальным обеспечением. Люди теряют рабочие места и больше не чувствуют ту стабильность, которую режим обещал на протяжении многих лет [в обмен на электоральную лояльность].
Газовая проблема наложилась на другие трудности и явилась тем самым последним тригерром — но только для определенного региона. Далеко не все в Казахстане пользуются газом, так что [для них это не было такой проблемой]. Не все люди в Алматы будут стоять всю ночь на площади из-за цен на газ. Но цепная реакция уже была запущена, и протест — под другими лозунгами — пошел по другим городам.
— Мирный протест в Казахстане очень быстро перерос в силовое противостояние. Почему демонстранты действуют намного жестче, чем, например, действовали протестующие в Беларуси?
— Да, ситуация, к сожалению, очень быстро эскалируется в определенных местах. Протест включает в себя огромное количество разных людей и разных повесток. Это было с самого начала заметно по тому, какие требования выдвигали люди. И частью этой разношерстной толпы оказались силы, которые решили, что нужно пользоваться ситуацией. И они, конечно, дискредитируют протестное движение как таковое.
Но не нужно, я считаю, забывать о том, что это очень многосоставной протест. И далеко не во всех городах, в которых люди вышли на улицы, стали орудовать мародеры. В таких городах, как Актобе, Жанаозен, этого удалось избежать. Местное сообщество смогло сдержать подобные настроения, не дало переступить порог. Они донесли до всех мысль, что нынешняя борьба, она за «намыс» — с казахского это переводится как «достоинство», «гордость» — а не за что-то сиюминутное. Но, к сожалению, в других местах толпа пользуется предоставленными им возможностями.
— Какие группы вышли на улицы и какая повестка у каждой из них?
— Это очень разные слои населения, и в разных регионах это разные группы. У нас очень индустриальный запад и очень индустриальный центр. Там выходят на улицу те люди, у которых есть сформированные годами требования к условиям труда — а они очень тяжелые, к оплате труда — а она низка. Эти люди — особенно на Западе — бастуют далеко не первый год. После 2011 года профсоюзы как институциональные структуры были разбиты, но это не означает, что исчезли неформальные связи между людьми, у которых есть поводы для недовольства. Последний протест из-за условий труда, в индустриях, вредных для здоровья, случился в 2021 году. Именно поэтому на Западе [Казахстана] было очень много политической повестки: требований сменить режим, сменить власть, провести реформы, вернуть [более демократическую] конституцию 1993 года. Лозунг про эту конституцию, кстати, очень давно не был слышен в Казахстане.
Другая группа протестующих — представители бедных слоев населения, тех, кто ниже среднего класса. Они вышли, потому что им все тяжелее и тяжелее сводить концы с концами. Им нужны какие-то перемены, при этом они чувствуют, что государство их абсолютно не слышит.
Третья группа — это те политические протестные сообщества, движения, которые, [несмотря на репрессивные действия], продолжают существовать в Казахстане. Да, наша оппозиция, которая работала более-менее организованно, в виде партий, распалась еще до 2019 года. Но то, что случилось после отставки Назарбаева, породило большую волну протестов (их стали называть «Казахской весной»), которые потом все-таки оформились в какие-то политические движения. Есть движение «Оян, Казахстан» («Проснись, Казахстан»), есть движение [активиста] Жанболата Мамая, который раньше был в объединенной оппозиции. Есть ряд других самоорганизованных групп.
Призывы выходить на протест распространялись по совершенно разным сообществам, в первую очередь — в мессенджерах. Поэтому там очень разношерстная группа, но их объединяет примерно одна и та же политическая повестка — призыв к экономическим, политическим изменениям.
Плюс, конечно, еще одна группа — те самые деструктивные элементы, у которых свои цели.
«То, что произошло в 2011 году, осталось очень сильной травмой для казахского общества»
— Вы вспомнили о протесте 2011 года в Жанаозене. Протест и в этот раз начался в этом регионе. Почему тогда, в 2011 году, он не пошел дальше, а в этот же раз распространился на всю страну?
— Недовольство нарастало постепенно. То, что произошло в 2011 году, осталось очень сильной травмой для казахского общества. Когда были распространены видео, показывающие, как убивали протестующих, это вызвало шок. У людей появился страх, они стали бояться репрессий. Насколько я могу судить по моим исследованиям — а я интервьюирую очень много разных людей, представителей разных слоев населения Казахстана — те события очень глубоко засели в умах людей, про них не забыли, кадры остались в памяти. Мы видели протесты 2014 года, после «Черного вторника», когда произошла очень мощная девальвация тенге — тогда говорили про Жанаозен. Мы видели «земельные протесты» 2016 года — где тоже говорилось про Жанаозен. Когда «Оян, Казахстан» вышел на улицу 16 декабря 2019 года, они тоже начали с напоминания о том, что на руках режима кровь — они начали с воспоминаний о жертвах Жанаозена.
Именно поэтому, когда говорят, что происходящее сейчас выросло из ниоткуда, это неправда. Я бы говорила о нарастающей цепной реакции. В 2020 тоже был большой протест, но из-за пандемии он был сконцентрирован в интернете, в социальных сетях — так как людей не выпускали на улицу. Проблема нарастала, и так как режим не смог ее решить, мы пришли к тому, к чему, к сожалению, пришли.
— Я правильно понимаю, что с 2011 года на общенациональном уровне травма, вызванная трагическими событиями в Жанаозене, никак не была проработана? Те события замалчивались?
— На официальном уровне сказали, что было 14 жертв, но люди знали, что на самом деле гораздо больше. Президент Назарбаев, конечно, выступал с определенными речами. Были какие-то публикации. Но на более обширном государственном уровне эта травма не была проработана. Произошедшее пытались подавать как локальный протест, профсоюзный конфликт нефтяников с их руководством — хотя было очевидно, что эти вопросы затрагивают не только конкретный город, что это глубинные проблемы, которые касаются и многих других жителей Казахстана.

— Вы сказали про конституцию 1993 года. Почему вы подчеркнули, что это важный лозунг?
— Россия и Казахстан в этом плане очень похожи. В России демократия была до 1996 года, в Казахстане — до 1995-го. Самые первые постсоветские годы были очень демократичными, был свободный парламент, который тогда еще назывался Верховный Совет, публичные обсуждения, зарождалась демократия. Более старшее поколение, которому в те годы было 30-40-50 лет, помнит это. Эта конституция соблюдала определенный баланс власти, и в ней было много демократических механизмов управления [страной]. Парламент мог повлиять на законодательные решения. Была свободная судебная власть. Присутствовал баланс сдержек [и противовесов], и ни одна из ветвей власти не возвышалась над остальными. Но также в тот момент Назарбаев был действительно популярным лидером, и он смог инициировать референдум 1995 года, чтобы поменять конституцию. Она дала гораздо больше прав президенту, мы стали президентской республикой. Президент стал назначать конституционный совет, судей, главу Сената [верхней палаты парламента], премьер-министра, всех акимов. Также президент имеет право инициировать поправки и в конституцию, и в конституционные законы. У него есть и право вето на введение любого закона.
Поэтому когда люди говорят о том, что хотят вернуться к 1993 году, это свидетельствует о большом переосмыслении того, что случилось за годы суперпрезидентской власти Назарбаева.
Интересно, что эти лозунги как будто всплыли практически из небытия. Старая оппозиция об этом вспоминала, когда выступала в 2006 году или в 2007-м, но мое поколение все же обычно говорило о поправках именно в действующую конституцию [1995 года].
«Культа личности Назарбаева не было. Была имитация»
— Когда Назарбаев начал терять популярность?
— У нас были очень «режимные» (то есть инициированные людьми, имевшими или имеющими отношение к режиму — прим. «Медузы») протесты в 1998 году. Тогда бывший премьер-министр [Акежан] Кажегельдин — выходец из той же системы — выступил против режима. Но те оппозиционные выступления не были масштабными.
В 2001 году с отставкой очень большого количества молодых технократов — министров и советников, имевших определенную популярность у населения — тоже был определенный всплеск, но он тоже быстро сошел. Все это время Назарбаеву удавалось удерживать [лояльность] большинства населения, он оставался достаточно популярным. Но дальше на ситуацию начали влиять экономические кризисы 2008-го и 2011 годов, та же проблема с Жанаозеном, о которой мы говорили.
Мне кажется, ключевым был момент, когда Назарбаев ушел с поста президента. Очень многие аполитичные молодые люди вдруг проснулись и задались вопросом: «А почему я не имею права выбрать того кандидата, которого хочу?» И существенная часть населения поняла, что протест возможен. Особенно важно, что это был полностью «нережимный» протест. И протест, который происходит сейчас, он тоже «нережимный».
Даже бюрократический класс, который верил в Назарбаева, постепенно стал терять веру в него. И в контексте нынешних протестов, мне кажется, показательно, что разгромили офисы партии «Нур Отан», а не только магазины. Это показывает, что люди устали и больше не верят в эту систему.
— Но почему тогда элиты не попрощались с Назарбаевым раньше, до начала протестов?
— До определенного момента у Назарбаева была большая и институциональная, и символическая власть, он мог поддерживать собственный персоналистский режим. И все, что делал режим, в том числе в той серой зоне, которая была скрыта за ширмой, основывалось на тотальной лояльности к фигуре Назарбаева. Но в последние месяцы ситуация стала меняться. Все эти фасадные памятники, переименования — они уже были чем-то остаточным, попыткой доказать лояльность Назарбаеву. Но это не было культом личности.
— А что это было?
— Это была имитация. Чтобы быть частью элиты, следовало играть по правилам. Главное из них — демонстрировать лояльность Назарбаеву. Именно поэтому они создали этот «культ личности» — но только в своем собственном элитарном поле. Эти памятники, парки, переименование улиц, все это делали не люди, а элиты. У людей же это вызывало протест, люди не хотели переименования Астаны в Нур-Султан, подписывали петиции, организовывали марафоны «От Назарбаева до правды», записывали песни, вроде «Я умираю в Нур-Султане» Опиа и Кисы. Было очень [символично], что первый памятник Назарбаеву снесли именно в таком, глубоко лояльном Назарбаеву регионе, как Алматинская область. И это произошло на улице Назарбаева. Алматы — протестный город, но Алматинская область — не была до этого протестным регионом. И нынешний протест показал, что для выживания режиму нужно отказаться от всего того, что Назарбаев сделал. Отказаться от него самого.
— Если сравнить казахстанский и российский политический режимы, то какой из них жестче?
— Мне кажется, они очень похожи. У нас нет как таковых свободных СМИ. Но все же есть определенные ресурсы, такие как «Vласть», «Медиазона. Центральная Азия», «Orda», которые стараются независимо освещать происходящее. Телевидение у нас, естественно, полностью под контролем государством, печатные СМИ практически все под государством — кроме «Новой газеты», которая у нас тоже издается. Так что окно закрыто, но в форточку подышать дают. Давали.
— И как вы думаете, много людей в Казахстане верят в заявления пропагандистов о том, что все протестующие — мародеры и деструктивные элементы?
— Нам очень, очень нужен свой «Левада-Центр». К сожалению, у нас очень мало независимых социологических исследовательских центров, чтобы измерять настроения общества, которые быстро и часто меняются — и сильно зависят от экономической подоплеки.
Назарбаев прекрасно понимал, что во избежание протестов нужно давать народу определенную экономическую стабильность. Стабильность была просто мантрой назарбаевского режима. Сейчас стабильности больше нет, но и данных о настроениях людей — тоже. Происходящие события могут как угодно восприниматься абсолютно дезинформированными людьми, которые сидят без связи и слушают выстрелы, раздающиеся с улицы. Конечно, может даже создаваться впечатление, что началась гражданская война.
«Общество в Казахстане поляризовано. Но не по национальному признаку»
— Но, как я понимаю, реальных предпосылок для гражданской войны, как было в Украине в 2014 году, все же нет? Во всяком случае явных?
— Из того, что мы сейчас наблюдаем, не создается впечатления, что кто-то из протестующих хочет развала страны. Какие бы ни были лозунги и как бы они ни разнились — от популистских до очень правых — здесь нет какой-то такой огромной поляризации, которая могла бы привести к гражданскому конфликту. Пока. И я надеюсь, никто не будет это педалировать. Среди тех активистов, которых я интервьюировала с начала «Казахской весны» 2019 года, у всех был четкий месседж: даже если революция случится, она должна быть очень поступательной. Никто не хочет острого конфликта.
Мне кажется, среднестатистический казахстанец очень прагматичен. По крайней мере до начала мародерств люди все-таки верили в эту стабильность, возможность достичь всего спокойно — без войны. И нужно подчеркнуть — во всех чатах, которые я исследовала, доминировало двуязычие. И не было никакой националистической подоплеки: «Неважно, кто ты по национальности, это наша страна».
Режим всегда старался немного разделить население на казахоязычное и на русскоязычное, но, как ни странно, в самом обществе сохранилась солидарность. На улицы выходят разные группы людей. И вне зависимости от языка, этничности, они хотят перемен, реформ. Но, конечно, в такой нестабильной ситуации все может перевернуться. В такой многонациональной стране, как Казахстан, естественно, очень легко все свести к межэтнической подоплеке. Но, надеюсь, этого не случится.
— Один из ваших исследовательских интересов — построение нации в Казахстане. К какому выводу вы пришли: есть ли вообще такая нация, как казахстанцы?
— Почти 30 лет наш режим искал пресловутую национальную идею. Это [создавало у него] ощущение контроля над смыслами. Только вот на деле, среди людей, это работает по-другому. Скорее, существует идея солидарности, которая [исходит от] разных сообществ, а не спускается сверху как определенная прерогатива режима, правительства или того, что многие люди называют «властью».
— А насколько казахское общество при этом поляризовано? И как эта поляризация повлияла на протесты?
— Мне кажется, что общество действительно поляризовано. Но проблема в том, что у нас режим обращает внимание [только] на этно-языковую поляризацию — между русскоязычными и казахоязычными людьми, а это не отражает ситуацию, сложившуюся в обществе. На самом деле люди переживают не столько за национальную политику, сколько за [свое социально-экономическое положение].
Вот у нас есть кредитная система «Каспи». И там, среди прочего, можно взять продукты в кредит. И вот когда люди доходят до такой точки, когда им нужно брать в долг, чтобы купить продукты, мало кто из них интересуется тем, какая у государства национальная политика. На самом деле в том-то и проблема, что режим рассматривает поляризацию в разрезе, который далеко не так значим, как экономические трудности.
Так что я бы скорее говорила о поляризации как о классовом расслоении. Есть группа очень-очень богатых людей, которые могут позволить практически все, есть совсем небольшая прослойка среднего класса. Но значительная часть населения относится к разным [уровням] бедного слоя.
— То есть, вам кажется, что «мы» и «они» в казахстанском контексте — это скорее «народ» против «системы», «элит»?
— Да, скорее так. Этничность немножко стирается. «Мы» против «системы», а не друг против друга.
— А где, как вам кажется, проходит грань между «народом» и «системой»? Вот, например, госслужащий — это «народ» или «система»?
— Понятно, что, если речь идет о каком-то клерке, охраннике, которые получают копейки за свою работу, это, естественно, люди из народа. А если о советнике министра, у которого существенные ресурсы, это человек системы. Мы видели, как силовики и полицейские переходили на сторону протестующих. В этом смысле они стали частью «народа», несмотря на то, что до этого, затаскивая протестующих в автозаки, они были частью системы.
Грань действительно тонкая и проходит по коррупционной линии. Народ чувствует себя обокраденным системой, и не так важно, где и кем ты работаешь, важна именно вовлеченность в коррупционные схемы.
— То есть это скорее антикоррупционные протесты?
— Коррупция — это часть проблемы. И речь даже не столько о коррумпированности тех, кто руководит страной, сколько о массовой низовой коррупции, из-за которой растаскиваются бюджеты в очень многих сферах. Но я бы не сказала, что [борьба с ней] — это основной призыв протестующих. Протест идет против несправедливого устройства общества как такового.
— Запрос на справедливость кажется слишком обширным. Можно ли считать борьбу с несправедливостью реалистичным лозунгом?
— Несправедливость — это описание всего беззакония, коррупции, авторитаризма и так далее. И для разных групп, опять-таки, борьба против несправедливости выглядит по-разному. Кто-то считает, что нужны в первую очередь экономические реформы. Кто-то выступает за политические реформы, за то, чтобы сделать все для верховенства закона. Потому что если, допустим, тебя собьет машина, и за рулем при этом будет сын какого-то чиновника, ему все сойдет с рук. У нас есть даже такое понятие — «усеновщина», по имени сына одного когда-то высокопоставленного [чиновника] из системы, [Кажымурата] Усенова. Его сын сбил группу людей в Алматы, один человек погиб. Этого парня [просто] лишили прав, причем буквально через три месяца уже видели за рулем другой машины.
Людей раздражает эта безнаказанность, и это раздражение потом складывается в большой дискурс несправедливости. Люди просто боятся за свою жизнь.
Хотя есть, конечно, и определенная часть общества, которая воспринимает борьбу с несправедливостью скорее в популистском ключе. Они видят цифры, которые правительство ярко презентует на разных экономических форумах, и верят, что проблемы можно решить, если [по-другому] поделить ресурсы страны. Тот же самый Жанболат Мамай, которого я уже упоминала, работает именно на поле популизма. В 2019-2020 годах он призывал к кредитной амнистии — чтобы все банки списали бытовые кредиты казахстанцев на том основании, что эти банки коррумпированы и связаны с режимом. После этих его заявлений по WhatsApp стали распространяться слухи и дезинформация, и люди действительно верили, что кредиты спишут. Так что здесь очень многогранное понимание несправедливости и вариантов решения этой проблемы.
— А существуют ли в Казахстане антироссийские настроения — направленные не против своего русскоязычного населения, а против государства Российская Федерация?
— У нас слишком тесные экономические связи, у нас самая большая сухопутная граница с Россией. Слишком много нас всего связывает, и конфликт не выгоден ни России, ни нам. Казахстан — не Украина, ни в контексте протеста, ни в [международном] балансе сил. Может быть, в чем-то и можно обнаружить сходство, но это абсолютно разные кейсы. И я надеюсь, что Россия не будет педалировать вопрос русскоязычного населения, потому что русскоязычное население в Казахстане — это кто? Я, например, русскоязычное население, вся моя семья, половина моих друзей. Где проводить линию? В Казахстане так много людей говорит на русском, какая-то часть говорит еще и на казахском и на английском. Здесь все не так просто.
«На данный момент единственная возможность влиять на политику для граждан — это протест»
— Вы верите, что серьезные экономические, политические реформы возможны при сохранении действующего режима?
— Да. Для книги, над которой я сейчас работаю, я очень много разговаривала с активистами «Казахской весны». И они, в основном, понимают, что изменения не произойдут сиюминутно. Они осознают, что представление, будто революция может решить все проблемы за пару дней, — это миф. Но со временем что-то изменить можно.
Мне кажется, что политические активисты исходят из того, что постепенно мы сможем уйти от авторитаризма к полуавторитаризму, от полуавторитаризма мы будет дальше демократизироваться и придем, например, к парламентской республике в той или иной форме. Естественно, это не будет гладким процессом, будут свои кочки, проблемы.
В Казахстане активно следят за событиями в Армении и в Грузии, за тем, что происходит с Беларусью, Украиной, Россия тоже постоянно на радаре. Активисты следят и анализируют и протесты, которые происходят за пределами постсоветского пространства, пытаются понять, где и что работает, мыслят стратегически. И мне кажется, что транзит власти в Казахстане должен происходить постепенно. Через диалог, через реформы.
— То есть сейчас главное — выиграть борьбу за саму возможность развивать гражданское общество и иметь хоть какие-то рычаги влияния на власть?
— Конечно. Потому что на данный момент единственная возможность для граждан влиять на политику — это протест. [Возьмем пример Жанаозена] писать президенту — не сработало, писать своему депутату — не сработало, писать в газету — не сработало, сходить в акимат — аким в итоге на государственном телевидении сказал, что они все — хулиганы. Единственный оставшийся способ был — протест. Так все и началось.
— Правы ли те комментаторы, которые говорят, что у протеста внутри страны нет лидеров — и не очень понятно, кто может ими стать?
— Наверное, эти комментаторы ищут какого-то единого лидера для всех протестных [очагов], но Казахстан очень большая страна — у нас 14 регионов и 3 города республиканского значения. И в разных регионах свой контекст, своя география, свои локальные настроения и факторы, на них влияющие. Например, цветет и развивается юг Казахстана, а в Центральном и Западном Казахстане ситуация намного хуже.
Я не хочу говорить, что трайбализм играет [определяющую] роль. Он действительно играет определенную роль, но речь скорее о какой-то социально-культурной составляющей. На западе, например, велика доля русскоязычного населения, но эти люди отличаются от [русскоязычного] населения, которое живет в Алматы. Поэтому, мне кажется, и протест не может быть однородным, и не может быть одного какого-то единого лидера для всех. В каждом локальном контексте должны быть свои лидеры, которые будут отвечать своим локальным настроениям. И это тоже одна из потребностей людей, которые выходят протестовать. Их лишили возможности выбрать своих акимов. Они же хотят, чтобы человек, который находился бы у власти в этом регионе, понимал локальный контекст. От этого во многом зависит благополучие региона.
Многие представители режима сейчас просто не способны решать проблемы стратегически, они не мыслят долгосрочно. Вот сейчас цены [на газ] понизили на 180 дней — а дальше что? Поэтому смена режима кажется путем решения проблем. Люди хотят увидеть какую-то новую кровь, то есть новых людей в правительстве, которые будут мыслить немного по-другому, в том числе — учитывая настроения населения.
— А вы не боитесь, что вместо новой крови может быть много просто крови, и ей все и ограничится? Режим в 2011 году показал, что способен на самые крайние меры.
— Сейчас действительно переломный момент. Когда люди сидят по домам, с отключенным интернетом и просто слышат взрывы, они могут подумать все, что угодно. И в таких обстоятельствах намного проще управлять медийной обстановкой. Но, конечно, крайне важна не только реакция людей, но и расстановка сил внутри режима. И мы не знаем, какая сила переиграет всех остальных. Возможно, это будет полиция, а возможно, армия, спецслужбы. Какая из них переборет другую, таков и будет исход.
— Пока кажется, что эта сила — войска ОДКБ…
— Я бы не торопилась с выводами. Пока мы видим только начало высадки иностранных войск, а дальше нужно следить за динамикой событий.
Александра Владимирова